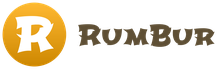В начале 2010-х идея познакомить Каху Бендукидзе и Алексея Навального витала в воздухе. Лидеру российской оппозиции и самому успешному реформатору на постсоветском пространстве точно нашлось бы о чем поговорить. В 2012 году я попытался организовать их встречу в Одессе, где несколько лет подряд проходил либертарианский семинар. От предложения выступить перед либертарианцами Навальный отмахнулся, словно речь шла о выступлении в дурдоме, но познакомиться с Бендукидзе ему было интересно.
Сегодня это покажется странным, но весной 2012 года, Навальный не был не то что под домашним арестом, но даже под подпиской о невыезде. Дело осложняли только протесты в Москве по случаю возвращения Путина в Кремль. Навального то задерживали, то отпускали. Перед тем как отправиться в аэропорт, я позвонил ему убедиться, что встреча состоится. Все в порядке, сказал он, меня выпустили. Через несколько часов мой самолет приземлился в Одессе, и я узнал, что не все в порядке — Навальному таки влепили 15 суток.
Делать было нечего. Я попытался сам влезть в шкуру будущего реформатора России и расспросить Бендукидзе (уже не в Одессе, а чуть позже — в Киеве) обо всем, о чем можно спросить за два часа. После расшифровки и причесывания текста, я набросал небольшой executive summary для Навального:
И нажал «Send».
Дело было в мае 2012 года. Не помню, какой отзыв я получил от адресата. Ему было не до рефлексий — через несколько дней после отправки письма к Навальному пришли следователи и изъяли компьютеры.
13 ноября 2014-го Кахи Бендукидзе не стало. Это интервью, которое не было нигде опубликовано, не утратило актуальности. Пусть его прочитают не только работники Следственного комитета.
***
— Я предлагаю поговорить о том, о чем мы собирались поговорить в Одессе, — как делать реформы в России. Но перед этим я хотел бы услышать от вас сжатое изложение того, что было сделано в Грузии. Эта история рассказана уже неоднократно, у всех свои акценты, хороший отчет выпустил Всемирный банк. Но одно дело — люди со стороны, другое — взгляд изнутри.
— Предлагаю посмотреть на это в историческом ракурсе, очень кратко. Случилась революция, она дала очень большой мандат правительству, но без надписи. Там не было написано «сделайте то-то и то-то», там было: «Так дальше жить нельзя, сделайте что-нибудь».
— Правительство было при этом коалиционным.
— Оно было коалиционным, еще более коалиционным было парламентское большинство. Даже люди из одной партии имели очень разные воззрения. Я считаю одной из больших заслуг Саакашвили то, что он сумел с этой коалицией управиться. И эта коалиция, многие члены которой были против конкретных реформ, в итоге голосовала за огромное количество реформ. Они проголосовали за сокращение численности депутатов парламента, с 250 до 150. Это была самая серьезная вещь, потому что они понимали, что в следующий парламент попадут не все.
Вот этот большой мандат и эта надпись «сделайте что-то» вызвали в правительстве некоторое желание что-то делать. Во время нашей первой встречи Саакашвили спросил, нравится ли мне экономическая программа. Я сказал, что программа не нравится, она хороша, но не для Грузии. Почему не для Грузии? Грузия ничего не имеет — ни большого внутреннего рынка, ни полезных ископаемых, ни хорошего местоположения на перекрестке всех культур, как Сингапур или Гонконг.
— Глухой угол Причерноморья.
— Северное Средиземноморье, непонятно где, никто не знает. Плюс на двух частях территории иностранные оккупационные войска, есть опасность вооруженного конфликта. В такой стране могут проходить только радикальные реформы, потому что все остальное не перевесит негативные моменты.
Главным вопросом было уничтожение коррупции. Уничтожению коррупции способствовала либерализация и дерегуляция, а либерализации и дерегуляции в свою очередь способствовало уничтожение коррупции.
Когда мы, например, ликвидировали антимонопольное ведомство (как мне кажется, существующая европейская, американская модель так называемой борьбы с монополиями — это борьба с экономическим развитием), то большой дискуссии, нужно или не нужно закрывать, не было. За это голосовали даже люди, которые считают антимонопольное регулирование необходимым. Потому что ведомство, которое это делало, никуда не годилось. Оно не может годиться вообще, но наше было еще и коррумпировано. Многие государственные агентства удавалось ликвидировать не потому, что все признавали, что их функции не нужны. Все признавали, что это ведомство настолько коррумпировано, что лучше его просто закрыть. И потом, может быть, когда-нибудь открыть снова. Все это, включая налоговую реформу, которая резко сократила число налогов и снизила ставки многих из них, привело к тому, что с одной стороны, у Грузии появился полноценный бюджет, а с другой — заниматься бизнесом стало гораздо проще. Итог: с момента «революции роз» экономика выросла в полтора раза — несмотря на то, что был мировой финансовый кризис, была война, было и осталось российское эмбарго, были всякого рода искусственно сконструированные перерывы в электроснабжении, газоснабжении.
Сегодня, конечно, Грузия не богатая страна, ей далеко до европейских стран, даже до России. Но если мы сохраним эти темпы развития — высокие однозначные (хотя я сторонник, чтобы были двузначные) — то, думаю, мы сможем через 20 лет уже по-другому смотреть друг другу в глаза, понимая, что вырвались из постсоветского болота. Не только ментально, но еще и экономически.
— Саакашвили хорошо управился с коалицией. Какова была тактика?
— Он работал с партиями, он работал с каждым депутатом индивидуально, другие люди тоже работали с депутатами. Плюс очень серьезная партийная дисциплина и создание коалиций внутри коалиций, которые преодолевали тот или иной вопрос. Я за этим наблюдал, будучи министром, офис которого написал больше законов, чем кто бы то ни было другой. Многие из этих законов мы сами проводили через парламент, и я в частности.
Дискуссии были очень острые и происходили, конечно, компромиссы. Считать, что это была бескомпромиссная дорога в светлое будущее, — это неправда. Компромиссы происходили все время. К примеру, когда мы создавали какие-то законы, я специально закладывал в них более экстремальные вещи, понимая, что надо будет уступать, и что важно не только качество, но и количество уступок. Какие-то малозначительные экстремальные вещи я уступал более легко, понимая, что сохранил…
— Путин тоже пришел к власти в России как президент коалиции, и года до 2003 это была работа коалиционная. В чем различие между двумя политическими режимами? Один перешел черту, а другой — удержался?
— Счастливые семьи все похожи друг на друга, а несчастные несчастны по-разному. Конечно, трудно сравнивать.
— Или главный вопрос — это вопрос коррупции?
— Вопрос коррупции является краеугольным. И второй вопрос — это, конечно, вопрос выборов. Но на них тоже, наверное, надо через призму коррупции смотреть.
В Грузии был поставлен вопрос — как изгнать коррупцию, в России стояло много других задач, но такой задачи не стояло.
— Была дежурная антикоррупционная риторика.
— Она не была главной. Российская политика не строилась вокруг борьбы с коррупцией.
— Давайте попробуем еще раз обобщить: дерегулирование, налоговая реформа…
— И очистка, очистка, очистка, очистка от коррупции.
— Люди в России говорят: Россия гораздо богаче (уже почти $15 000 на душу населения), чем Грузия в 2003 году, страна не стоит на краю пропасти, соответственно, нет такого мотиватора, как в Грузии.
— Что значит, страна не на таком уровне? Я думаю, есть африканские страны, которые только завидовали бы Грузии 2003 года. А есть европейские страны, которым нынешняя российская жизнь будет казаться нищенской.
— Представим, что в России к власти пришла новая коалиция. Если мы посмотрим на состав разных маршей, в нее входят левые, националисты и либералы. Чтобы прийти во власть, они должны совершить революцию. Правильно ли говорить, что целью грузинской революции тоже была демократизация режима?
— В том числе и это. Народу надоело, что ему впаривают людей, которых он не избирал. В этом смысле революция 2003 года — это было то же самое, что произошло через девять лет и три недели в России. Разницы большой я не вижу.
Я буду апеллировать не только к моим представлениям, но и к тому, что в мире происходит. К примеру, недавно к власти в Гватемале пришло такое интересное правительство: с одной стороны люди, которые получили образование в Университете Франсиско Маракина, включая президента — одного из первых выпускников этого университета, одного из самых либеральных (в европейском смысле) или либертарианских (в американском) учебных заведений в мире. А вторая часть правительства — бывшие полевые командиры коммунистических партизанских отрядов. И ничего, страна существует, и даже какие-то позитивные вещи происходят. Мне говорили, что министр финансов там коммунист, он был полевым командиром, но он хороший министр финансов, потому что не любит тратить деньги и вообще, может быть, аскет. Если правильных людей подобрать, правительство будет дееспособным.
И потом многое из того, что мы делали, не имеет — с философской точки зрения — левой или правой окраски. К примеру, вы будете выдавать паспорта в очень сжатые сроки, — это что, либертарианство или троцкизм? Нет, это просто быстро выдаются паспорта. А если у вас не будет очередей и взяток при получении водительских прав — это что?
— С российской точки зрения, это слом парадигмы: государство перестает быть хозяином и становится слугой.
— Но это не с точки зрения право-лево, это другое измерение. Я думаю, что все люди — и крайне левых, и крайне либертарианских взглядов — радуются, когда нет очереди за получением прав. Или к примеру, после того как я уже ушел из правительства, в 2009 году, мы разрешили продавать лекарства, если они зарегистрированы в развитых странах мира. Это технократические решения, а не левые или правые. Они родились в рамках правой парадигмы — как уменьшить госрегулирование, как сделать его менее мешающим жизни — но, как мне кажется, результат не должен раздражать кого бы то ни было.
— Кроме сокращенных бюджетников или тех, кто потерял источники коррупционного дохода.
— Да, но это не лево-право. Это группы интересов, которые очень часто прикрываются левой риторикой. Но это риторика левая, а не суть левая. Не думаю, что Маркс, Ленин или Троцкий были бы против того, чтобы немецкие лекарства продавались в Грузии без дополнительной сертификации или паспорта выдавались без очередей. Хотя да, многое из того, что мы сделали, было супротив левых идей.
Или основной вопрос — коррупция. Я думаю, она одинаково неприемлема и для левых и для правых — если они честны. И наоборот: она одинаково приемлема и для нечестных левых и для нечестных правых. Поэтому очень важен вопрос мандата. Волнует российский народ коррупция или не волнует? Я думаю, что это вопрос правильной, в хорошем смысле, политической риторики. Если политическая элита объяснят, что из-за регулирования и коррупции пробки в Москве, дорогие лекарства, дорогое жилье, не хватает зарплаты и так далее (а это так и есть), что именно коррупция рождает неравенство, которая так режет глаза граждан России, то она будет иметь поддержку. Конечно, это нужно четко артикулировать, объяснять понятными народу образами.
Одно дело, если мы говорим: «Видите, одни имеют возможность прекрасно жить, а другие такой возможности не имеют, поэтому давайте тем, кто ворует, не позволим воровать, тогда всем больше достанется». И совсем другое, если мы говорим: «Вот видите, как они воруют, поэтому давайте введем налог побольше и потом будем распределять». Вот это неправильное решение. Нужно правильно артикулировать и не надо пустопорожних дискуссий.
Поразительную дискуссию я читал в российской прессе, сколькикратным штрафом нужно облагать коррупционеров. Мне кажется, это вообще нонсенс. О каких штрафах может идти речь? Просто в тюрьму надо сажать.
— В отчете Всемирного банка в качестве очень важного пункта отмечается, что грузинское правительство с самого начала продемонстрировало свою приверженность борьбе с коррупцией. Что должен сделать лидер в России, чтобы всеми был считан сигнал: борьба с коррупцией — это всерьез, а не разбирательства с оппонентами.
— Сделать так, чтобы боялись близкие. Чтобы боялись враги, сделать не сложно.
Я сегодня вспоминал фильм братьев Тавиани «Признания комиссара полиции прокурору республики», в котором человек из высшего света убил любовницу. Ну не будут же его в тюрьму сажать. Поэтому дают съесть пакетик соли, он там мучается и умирает. И это не борьба с коррупцией, а имитация борьбы с коррупцией.
Борьба должна сильнее касаться тех, кто наверху, чем тех, кто внизу, — или хотя бы равномерно. Иначе это тоже будет имитация борьбы.
— Но для того чтобы свои проворовались, должно пройти какое-то время. А мы говорим о ситуации, когда новый руководитель только пришел к власти.
— Я думаю, что, увы, для того, чтобы свои проворовались, долго ждать не надо. И потом ничего страшного, если вы будете очищать политическую сцену от предыдущего коррумпированного поколения. Не думаю, что это будет рассматриваться как месть. Я знаю многих членов российского правительства, и мне кажется, что их роль в коррупции разная. Может быть, у кого-то что-то есть. Важен размер. Самые главные коррупционеры должны быть наказаны в самую первую очередь. Если конечно, до этого не будет какого-то общественного договора об амнистии.
— Но такой план предполагает, что есть всеведущее Аль-ЭфЕсБи, которое ведет реестр и каждому новому правителю выдает рейтинг коррупционеров…
— И это тоже есть. Мне кажется, для этого у правительства есть все инструменты. Для этого существует министерство внутренних дел, следственный комитет, ФСБ, министерство юстиции. Иначе зачем? Есть органы правоохранительные, но они право не охраняют. Так зачем они нужны? Давайте хотя бы сэкономим, что ли.
— Вопрос диалектический. Придя к власти, новые люди получают вот эти квази-правоохранительные структуры, которые право не охраняют, а нарушают: прокуратура, ФСБ…
— Их надо почистить. Хлам такой, понимаете.
Вас взяли на работу водителем на машине, которая вчера еще тарахтела. Придя в гараж, вы обнаружили, что во-первых, нет бензина, колеса сняты…
— Двигателя нет.
— Двигатель есть, но он не работает. Какие-то части разобраны. Машина могла бы катиться, если вы будете плечом давить. Но ездить сама прямо сейчас она не может. Эта проблема есть, да. Есть два способа.
Первый — повеситься сразу. «Жизнь моя не удалась», мне дали не работающую машину, прощайте, не поминайте меня лихом, считайте меня — в зависимости от контекста — коммунистом или антикоммунистом. И повеситься или броситься с обрыва.
А второе — это понять технологию восстановления работоспособности этой машины. Найти старые шины, их поставить — они не очень хорошие, они могут лопнуть, но какое-то время они проездят. Бензин по сусекам поскрести, чуть-чуть залить, чтобы хотя бы до бензоколонки доехать. Золотые часы вынести, чтобы на бензоколонке было что заложить, чтобы залили бензин…
— Какая последовательность реформ была в Грузии?
— Все одновременно происходило. Идея о последовательности реформ глубоко ошибочна.
— Я спрашиваю не про приоритизацию, а про историческую последовательность действий.
— Началась борьба с коррупцией.
— С помощью той машины, которая не могла ехать?
— Да, с помощью совершенно недееспособных инструментов, людей, которые получали мизерную зарплату, людей, которые работали за драйв, за любовь к родине, началась эта работа.
— Такие люди оставались в органах?
— На самом деле, нет же белых и черных людей, они имеют какой-то окрас, и он даже колеблется каждый момент. Есть люди, которых совершенно невозможно приспособить, но может быть, один раз даже их можно использовать.
У милиции и министерства безопасности Грузии даже бюджета толком не было.
— Сколько соберут…
— Да. Зарплата следователя была смехотворная, а оборот по году — серьезным. Более того, он мог сам нанимать криминалистов, переводчиков. Они так и поступали — кому-то платили $500, кому-то $5000. Такой хозрасчет. Мне рассказывали, что бюджета министерства безопасности хватало лишь на 10% реального потребления бензина. Это скорее они делали, чтобы строчка в бюджете осталась, чтобы она обозначала их существование.
— Какие знаковые шаги по борьбе с коррупцией предприняли с таким вот аппаратом?
— Несколько громких посадок. Без этого не получится ничего. Это может нравиться, не нравиться, считаться негуманным, too much, но без этого ничего не получится.
Еще раз говорю: есть проблема, когда у вас в связи с политической трансформацией возникла какая то-конвенция, как пакт Монклоа о коррупции. «Кто старое помянет, тому глаз вон».
— Вы как я понимаю сочетали кнут с пактом.
— В Грузии не было пакта особого.
— Вы сами год назад рассказывали, что тем, кто был по макушку в коррупции в качестве коррумпирующего, вы сказали: будете жить по новым правилам — живите.
— Потому что вы не можете наказать миллион человек. И второе — сейчас кто дает взятку и кто берет, одинаково криминализованы, но задача была в первую очередь вытеснить коррупцию из госаппарата, а не начать борьбу с сотнями тысяч грузин, которые давали взятки. Бороться — с теми десятками тысяч, которые брали взятки, а еще лучше с теми несколькими тысячами, которые были активными дирижерами и конструкторами всего этого дела.
Вы же хотите создать политическую конструкцию, которая победит. Как можно победить с конструкцией, которая говорит: мы жестоко накажем всех, кто давал взятки. Один давал менту, дорогу не там перешел, другой — в жэке, потому что ему что-то не ремонтировали. «А мы вас всех сейчас посадим». Да пошел ты! Тут все очень просто.
— Громкие посадки знаковых коррупционеров. Это был хаотический набор наиболее одиозных личностей?
— Некоторые из них были объявлены заранее. Мише [Саакашвили] помогло то, что при Шеварнадзе он какое-то время был министром юстиции и параллельно с парламентом начал какую-то кампанию по борьбе с коррупцией. Потом его Шеварнадзе «ушел», но следы этой борьбы остались, в том числе в виде каких-то мишеней, людей, по которым тюрьма плачет.
В нашем случае допускалось соглашение с правосудием — допустим, когда человек провел в предварительном заключении несколько месяцев, сдал награбленное или значительную его часть.
Вот ректор сельскохозяйственного института, который мы сейчас купили. Та часть Тбилиси, где я живу, а это огромная часть города, 1000 гектар, принадлежала сельхозинституту. И он все это хозяйство продал за полдоллара плюс два доллара сверху. Никто же не считал, за сколько он продал. Были люди, которые говорили: да, я купил и дал за это $3000. Но статистику никто не вел. Было понятно, что он брал взятки. Его арестовали.
Он три месяца посидел. Его можно посадить еще на восемь лет либо заставить компенсировать ущерб. И нет возможности разобраться, как в точности было, потому что у вас таких дел еще 500. Он стал плакать и говорить, что у него ничего нет. «Да, я брал взятки, вернее продавал за наличные, и учитывал эти деньги, но это было маленькие деньги. Ну, у меня есть 100 000, допустим». Хорошо, давай, мы пойдем к судье, 100 000 — и мы тебя отпускаем. Не миллионы, которые он заработал, как потом стало понятно.
«Через неделю я захожу в магазин, куда я обычно не захожу, потому что очень дорогой, — рассказывал мне недавно генпрокурор (тогда он был министр юстиции). — Стоит человек и приценивается к самому дорогому пальто за 5000 лари. Я думаю: кто же это такой». Оборачивается — ректор.
Ну что делать? Не будешь же второй раз сажать за то, что обманул.
— А как с такого рода деятелями поступать в России?
— Мне кажется, надо часть все же посадить. Самую оголтелую.
— А с остальными? Люстрация?
— В том числе.
Не должно быть ощущения безнаказанности. Где-то нужно провести четкую границу.
Важно еще вот что учитывать. Насколько это еще происходило в рамках второго, «обычного права», которое существует в России.
— Что вы имеете в виду?
— Есть российское законодательство, а есть некое право, в котором действует Путин, и там достаточно жесткие правила. Например, своих не бросают. За исключением каких-то радикальных случаев человека не лишают всего имущества. Вот Гусинский. Он получил деньги, хотя на самом деле у него еще и банк рухнул, поэтому сальдо не в его пользу было.
— Лужков, Бородин…Кодекс вольности дворянской.
— Со мной тоже такая ситуация была. Я продал ОМЗ («Объединенные мшиностроительные заводы» — промышленная компания, принадлежавшая в России Бендукидзе. — Slon.ru) дешевле, чем они стоили на рынке, причем не в самый лучший момент. Я мог бы продать через два года, и заработал бы в два раза больше. Плюс у меня купили с 30%-ным дисконтом, то есть в общей сложности мог получить в три раза больше. Но мне заплатили деньги по-честному, не обманули, ничего.
Чем это вызвано, уже второй вопрос, может, это утилитарные мотивы. Но считается, что нельзя человека всего лишать. Как в законодательстве есть перечень, что человек не может быть лишен двух пар трусов, одной пары штанов, шахматной доски, и так далее — а если он живет на Севере, то не может быть лишен стада оленей в количестве 50 голов. Вот это стадо оленей Гусинскому, Батуриной оставили. И это тоже часть обычного права.
В рамках этого права люди по-разному действуют. Некоторые это право соблюдали, некоторые его нарушали, то есть действовали как беспредельщики, которые есть и в уголовном мире, где свои нормы обычного права.
Я знаю одного из бывших министров. Понимаю, что он тоже коррупционер. На своем примере знаю, что мог принимать волюнтаристские решения, но мне не известно про его беспредельничество. Он воровал в отведенных рамках, на своей поляне, но никого не «заказывал» и не занимаются симонией, не продавал места заместителей. Что, я думаю, сильно отличается от каких-нибудь руководителей Росрыболовства или других ведомств.
Я все продал в России, но у меня есть миноритарная доля в одном бизнесе и есть квартира в Москве. Ее мне не советуют продавать. Подождите, говорит риэлтор, вот сейчас в Олимпстрое будут реформы. «И что?» Будет много людей, которые захотят эту квартиру. Она дорогая — в очень хорошем месте, большая, в новопостроенном доме.
Одни беспредельщики, а другие — воры. И с одними надо разбираться со всей строгостью законов, а с другими можно мягче. Отпустить — это же не значит, что они должны как-то процветать, но есть разница между почти честным человеком и почти бандитом. Потому что если вы это не учитываете, у вас получается робеспьеровщина.
— Понятно. А вот известный кейс Игоря Шувалова — это что, беспредел или «в рамках обычного права»?
— Знаете, я деталей не знаю. Фактически, Шувалов торговал инсайдерской информацией, trading by influence.
— Детские шалости.
— (Смеется) Но если он действительно строит дачу 12 000 квадратных метров, то это беспредел.
— Свыше какого метража начинается беспредел?
— В Азербайджане говорят: украл деньги — построй завод. Еще украл — еще построй. Заводы твои, но создавай рабочие места. Такое протестантское воровство. Украл много денег, живешь скромно, неплохо живешь, но бизнес развиваешь. А если появились деньги и построил дачу 12 000 квадратных метров — это ни в какие ворота.
Нужно очень четко различать между ворами и беспредельщиками, чтобы возникло ощущение справедливости. Если точно вычитать, что есть в головах людей, и воплотить это, тогда будет ощущение справедливости.
— Понимают ли люди, что у них в головах?
— Природа о нас позаботилась, не надо рефлексировать, вы должны просто это понять и сделать.
— В голове у россиян и у грузин примерно одинаковые представления?
— Думаю, да.
— А как же имперский синдром?
— Мы о другой части мозга говорим сейчас: украл — не украл. Если и есть разница, то не качественная, а количественная. Сознание народа, который не считает выполнение законов благом, но понимает, что сильное их невыполнение грозит чем-то совсем ужасным.
Представьте себе, вы пришли что-то чинить в подъезде. У вас зарплата 50 000 рублей, и с вас требуют 300 рублей. Скорее всего вы отдадите. И не скажете: «Вот беспредельщики». А представьте, что у вас замерзают батареи во всем подъезде, вы звоните в ЖЭК, и вам говорят: вы сначала завезите нам деньги и мы после этого уже приедем. Вот это беспредельщики.
Я не культурный антрополог, чтобы красиво изложить, где находится эта граница, но совершенно очевидно, что в одном случае мздоимство воспринимается как такой обычай, а в другом — как хамство, наглость и надо дать по голове.
Врач, который требует денег перед тем, как сделает операцию, напрашивается на «дать по голове», а врач, который сделал операцию, после чего вы даете ему деньги, и он кладет их в карман, невиновен в этом смысле. Но если вы не проведете различия, и будете говорить dura lex sed lex, то все погибнет.
Очень важно в какой-то момент остановиться. У нас в Грузии в какой-то момент оказалось огромное количество дел, связанных с имуществом, которое было не совсем правомерно получено. «Не совсем правомерно» включало в себя много всякого разного. К примеру, самый радикальный случай — человек получил решение президента, чтобы ему передали 1,5 га земли там, где, как говорил Лермонтов, «сливаяся шумят струи Арагвы и Куры». Потом выйдя от Шеварнадзе, замазал запятую наглым образом и получил 15 га. Или был случай, когда мэр города 10 лет назад выдал разрешение на строительство дома, не имея всех положенных полномочий. И в какой-то момент у нас начались массовые реквизиции. Почему? Потому что не были применены нормы обычного, «заднего» права. Один жулик, а другой вообще ни при чем, он и взятку не платил, ему полагалась квартира, а потом оказалось весь дом был построен неправильно.
Это породило чудовищную неуверенность, потому что непонятно — купишь, а потом окажется, что что-то было неправильно сделано, и у тебя отберут.
Я очень много времени положил на то, чтобы с этой ситуацией бороться. Я призывал вернуться к нормам обычного права. И в августе 2007 года нынешний министр юстиции, который тогда был генпрокурором, мне сказал: «Ты ломишься в открытую дверь. Объяснить это нужно не мне, и не [министру внутренних дел] Вано Мирабишвили, а 200 наших следователей, а им ты этого не объяснишь. Ты напиши закон».
И мы написали закон о легализации имущества. Жалею, что не сделал этого раньше. Мы провели грань между нарушениями, которые связаны с неправомерными решениями госорганов, и жульничеством и другими международно порицаемыми преступлениями. Если ты это получил путем жульничества, то это одно дело, а если это город ошибся, не ту печать поставили, то это не твоя проблема. По имуществу это работает. Зачем следователь будет ломиться в открытую дверь?
То же самое было, когда мы сделали налоговую амнистию в конце 2004 года. Грань была проведена так: все дела, которые открыты, продолжаются, все остальные — амнистируются.
Это очень важно, потому что иначе оказывается, что вся страна не платила налоги, вся страна неправильно получила квартиы. В какой-то момент могло оказаться, что в трети Тбилиси неправильно построенное жилье. И что делать?
— Но в Тбилиси как раз активно сносили незаконные постройки.
— И это сыграло огромную отрицательную роль. Я считаю, что из-за этого у нас случились события 7 ноября 2007 года (массовые столкновения оппозиции с полицией. — Slon.ru). Там было три компонента: один компонент — высокая инфляция, второй — вот это, и третий — был очень высокий рост [экономики], и механизмы перераспределения просто не успели сработать. Высокий рост с высокой инфляцией породили более чем обычную дифференциацию. Инфляция была 15%, а рост — 12%. Почти 30% номинальный рост ВВП. У кого-то реальные доходы выросли в полтора раза, а у кого-то уменьшились на 20%. То есть несколько триггеров было.
Карл Бильдт нам в начале 2007 года говорил: у вас такая высокая инфляция, что это кончится демонстрациями. Но мы так радовались экономическому росту, что не послушали его.
— Оглядываясь назад, можно сказать, что закон о легализации имущества нужно принимать одновременно с налоговой амнистией, а не три года спустя. Это общий пакет — подведения черты.
— Да, надо было. Я думаю, это относится и к России. У наших стран общая специфика: все частное имущество в России и Грузии порождено в результате трансформации государственного имущества. Этой проблемы нет в Англии или в других странах.
Во всем мире, по крайней мере в системе континентального права, если вы отменяете нормативный акт, то у вас отменяются все следствия этого акта. Условно говоря, если вы приняли акт, что эта улица называется Крещатик, а потом его отменили, то эта улица больше не называется Крещатик. Вся приватизация происходила на основе нормативных актов, а отмена этих нормативных актов — плевое дело, тьфу — кто издал, тот может и отменить. В большинстве законов о приватизации в разных странах, в том числе в Грузии, заложены различные механизмы — например, есть механизм судебного расторжения сделки по приватизации, то есть одной отмены акта недостаточно. Но и в Украине, и в Грузии, и в России, очень большое количество имущества перешло не через закон о приватизации. Квартиры, например, — это не закон о приватизации, отвод земли под строительство — не закон о приватизации. Даже продажа земель во многих случаях — это не закон о приватизации. А в тех законах не учтены специальные механизмы, поэтому очень легко все разрушается. И конечно, нужно от этого защитить всех. Иначе возникает страх. Когда мы в Грузии в 2008 году проводили опросы перед выборами и спрашивали, как люди относятся к этим сносам, для 18% это был очень важный вопрос. Когда сносится что-то готовое, даже если это незаконное, у людей возникает чувство протеста. Люди не любят энтропию.
— Реформа правоохранительной системы. В моем представлении есть два больших различия между грузинскими силовиками — МВД, службой безопасности, прокуратурой, которые не пользовались никаким престижем и уважением в обществе, и аналогичными учреждениями в России, которые…
— А они что пользуются уважением?
— По опросам многие молодые люди хотели бы работать в ФСБ.
— И проститутками еще хотят стать какие-то девочки.
— И второе различие: позиции российских силовиков во власти гораздо более прочные, чем у грузинских при Шеварнадзе.
— Мне кажется, несколько вещей можно сделать более-менее безболезненно. Например, лишить прокуратуру общего надзора. Не надо никакого общего надзора над всем, что происходит в мире. В Кыргызстане по моему совету это сделали, хуже не стало. Зачем это? Прокурор сейчас может проверять, насколько хорошо у вас в редакции соблюдается закон о материнстве и детстве. На хрен вам это надо? На хрен вообще это кому-то надо?
И, соответственно, отрезать все это дело у милиции. Никакого общего надзора. Никаких проверок соблюдения постановления о всеобщем благоденствии, о запрете труда подростков. Пусть занимается только уголовщиной.
Если почему-то считается, что в общественных интересах милиция должна ходить и проверять незаконную установку кондиционеров, лучше на пять лет это отменить.
Вообще нужно резкое сокращение контактов с гражданами. Почему отмена техосмотра очень важна? Не потому что это огромный убыток народному хозяйству — это копейки. А потому что это точка, где происходит массовое коррумпирование. В России, наверное, десятки миллионов людей должны приходить каждый год в милицию и там что-то такое вот совершать…
Проанализировать все точки массового контакта и их по возможности удалить, если невозможна глубокая реформа.
Плюс надо посмотреть правде в глаза и признать, что ГАИ просто в принципе не может создавать никакой полезной общественной стоимости, а только вычитать, и все это ликвидировать на хрен. Ничего на дорогах не будет происходить такого, чего сейчас не происходит. Все, что может происходить, уже происходит: ездят накокаиненные, ездят пьяные, ездят просто отмороженные, хоть и в здравом уме. Только у самых странных людей я встречал иллюзии, что без ГАИ будет беспорядок на дорогах. Ничего не будет.
Если жалко почему-то ГАИ, то можно уволить там каждого четвертого, пятого, двадцатого, и оставить 25%. Мало ГАИ — это тоже нормально.
— А что делать с ФСБ — органом, который, по существу, пользуется теми же прерогативами общего надзора?
— Мы же понимаем с вами, что ФСБ на самом деле не нужно. Я думаю, значительная часть ФСБ уже хорошо заработала. Одна из причин, почему удалось это сделать [в Грузии] — в министерстве безопасности была реальная коррупция, и у всех что-то было.
— И было куда деваться после увольнения.
— У кого-то магазинчик, у кого-то пара машин, можно пойти таксистом, лишняя квартира, которую можно сдать…
— Им есть что терять и они не пойдут в партизаны…
— Им, безусловно, есть что терять. Вооруженное восстание ФСБ невозможно себе представить. Я могу себе представить вооруженное восстание пограничников, которые с этого кормились, или каких-то полицейских, например, в Москве. А эфэсбэшники могут быть недовольны, но восстать…
— Восстать против чего? Против расформирования службы?
— Это зависит от того, насколько большой мандат. ФСБ же пять лет не существовало. Было какое-то здание.
Однажды [в 1990-х] на нас наехали очень серьезно. Приятель одного из наших партнеров сказал, что у него есть знакомый замдиректора ФАПСИ. Оно совсем недавно было выделено из КГБ, там тоже были генералы. И этот генерал нам говорит: «Да, да, могу помочь». Как? «У меня есть знакомые дагестанцы». При чем здесь дагестанцы, у тебя армия, флот. К дагестанцам мы и сами можем обратиться. «Но это хорошие дагестанцы». Спасибо. Обойдемся без дагестанцев.
То есть его не было, этого ФСБ. Ну и еще раз его не будет.
Конечно, им важны свои символы — Дзержинский там и все такое, и — в сад, в сад, в сад…
— Вы хотите сказать, что они конформисты в гораздо большей степени, чем полицейские…
— Нынешнее поколение — суперконформисты.
А второе что можно сделать — можно методом ударной возгонки повысить и перевести в полицию.
— Считается, что именно эта тактика — эфэсбешники во главе МВД — ведет к деградации полиции.
— Да, вы хотите испортить МВД. То МВД, которое сегодня, уже плохое.
— В Грузии вы фактически создавали эти институты с нуля.
— Да, но наше ФСБ не играло такой роли. Министерство безопасности было детищем Георгадзе, он совершил неудачное покушение на Шеварнадзе, и после этого служба безопасности стала слабеть, слабеть, слабеть.
— Если суммировать: вы полагаете, что в России такая радикальная перестройка правоохранительных органов, как в Грузии, невозможна.
— Когда я был маленький, я умел охотиться на пчел. Я подкрадывался, брал их за оба крылышка, и они укусить меня не могли. Потом они меня ужалили, и я с тех пор не могу это делать.
Все зависит от человека. Если он верит, что у него это получится, у него получится. А если он боится, то можно попробовать мягкий вариант.
— Что делать с судами?
— С судами тяжело. Поскольку там невозможно job description сделать, они будут проблемой еще много десятков лет. И с этим нужно будет жить.
— В чем ваши проблемы?
— Мы много обсуждали это с министром юстиции. Он говорит, что как только оставляет судебную систему без присмотра, там сразу начинается коррупция. В разных форматах, не обязательно с чемоданами денег, но какая-то начинается… Я сам это видел несколько раз. В результате у нас судьи относительно честные, но слабые.
Была реформа прокуратуры, после чего очень многие люди из прокуратуры были внедрены в судебную систему. Они лояльны власти, что в общем-то неправильно, они как правило зашорены, они не такие судьи, как в Америке — «в моем суде я царь и бог», они долго не принимают решений, они хотят подумать, им важно не ошибиться, они как служивые люди. Но это уменьшает коррупцию. Такой trade-off получился.
Я в свое время думал, и полагаю, что был прав: надо делать некую форму конкуренции в судебной системе, пусть даже не идеальную конкуренцию, и тогда судебная система сможет как-то подтягиваться. Сделать набор дел, в которых ad hoc арбитражный состав может решать дело. Благодаря конкуренции не судов, а судей возникает система, способная взрастить хотя бы десяток очень качественных судей. Если человек ad hoc может судить, то его будут назначать, назначать и назначать. В стране возникло бы 15 очень толковых судей, которым бы все верили, они бы десять лет уже решали эти вопросы без всякой коррупции, их решения были бы сбалансированы, правильны. И тогда их можно уже использовать для построения системы.
— Известный вам консультант Николай Коварский, с которым мы пару лет назад обсуждали реформу МВД, утверждает — и эта позиция в России очень распространена — что без реформы суда переделать правоохранительные органы невозможно. Как я понимаю, грузинский опыт свидетельствует о том, что это не так.
— Надо спросить его — он же был в Грузии, изучал реформу МВД.
— Я опубликовал его статью об этом в русском Forbes.
— Вано Мерабишвили считает, что это лучшая статья в мире о реформе МВД. Он ее рекомендует всем, кто приезжает: вот есть статься Коварского, почитайте.
— То есть увязывать реформу МВД и судебной системы не надо?
— Мне кажется, не надо. Это зависит в том числе от того, как устроены чиновничьи институты. Можно часть дел выводить из суда через административные судебные решения. Плюс конечно, должны судить суды присяжных. Они очень важны не просто потому, что несут элемент справедливости. Они имеют огромное воспитательное значение, потому что многие люди через это проходят.
У меня есть знакомый. Он сейчас гражданин Америки и два раза уже был в жюри [присяжных]. Для него самое важное событие в жизни — не то, как он защитил докторскую, не то, как он сделал открытие, а участие в жюри. Он всем рассказывает об этом.
Такой опыт не проходит даром. Если у вас 1000 судебных дел, то у вас 50 000 прошло через селекцию, 10 000 участвовало в качестве присяжных, то получается такое массовое юридическое образование.
— Вопрос несменяемости Саакашвили стоит перед Грузией?
— Он существенно сильнее всех остальных. Мы не обсуждали это с ним, но в общем-то понимаем, что даже если он имел бы право баллотироваться, то это было бы не полезно для Грузии. По новой конституции большими полномочиями обладает премьер-министр, и формально для него это приемлемо. Эту роль он мог бы примерить на себя и быть активным премьер-министром. Другое дело, что мне кажется, что и для него это не самое правильное: тефлоновость теряется, а с этим теряется политическая устойчивость. Если самый главный политик — премьер-министр, и ему угрожает недоверие, то все, партию надо списывать. Это тогда уже не тефлоновый, а антитефлоновый политик, надо сковородку выкидывать. Может, он станет спикером парламента.
— Меня интересует более общий вопрос — преемственность политики.
— Тут очень важно, насколько реформы смогли отразиться на жизни людей. Ничего необратимого нету, просто люди должны быть на стороне необратимости. Они должны понимать, что от того, что кто-то другой пришел, все подорожало, появились очереди везде и опять просят взятки. И они должны проголосовать снова за предыдущую власть. А как иначе обеспечить необратимость?
— То есть лучшая гарантия — демократические механизмы.
— Естественно. Ничего же другого не придумано. Никакая страна мира не способна сейчас перейти к цензовой демократии. Не понятен механизм, как это может произойти без расстрела большей части населения.
В России, например, сейчас проходит реформа корпоративного права. Русский народ она не волнует. Единственный вопрос, который его может взволновать, — не возникнут ли очереди на перерегистрацию. Реформа корпоративного права очень важна, и для экономического развития страны она может означать больше, чем — я повторюсь — отмена техосмотра. Но отмена техосмотра касается 20 млн семей, а эта реформа — 200 000 семей. Поэтому популистский эффект у техосмотра больше, чем у корпоративного права.
Надо сочетать.
От отмены техосмотра только хорошее происходит, это не популизм, но у него популистский компонент больше.
— Вы имеете в виду сочетание популярных и технократических реформ.
— Я имею в виду реформы, которые приводят и к видимым улучшениям. Я иду и я вижу. И это касается не 20 человек, а 20 млн человек. Просто надо написать список 10 главных мест контакта человека с государством и попробовать, чтобы хотя бы в трех из них стало лучше. И это все громко продать. Других я не вижу способов.
Посадки не могут долго работать. Это одноразовый такой разворот. Потом вы должны иногда для поддержания порядка это делать.
Очень важным в российском обществе мне кажется ощущение, что мир в итоге устроен справедливо. Если невозможно на госслужбу устроиться без блата, это гораздо большее ощущение несправедливости порождает, чем любой коэффициент Джини.
Владимир Федорин
Источник: slon.ru